Странной и своенравной была судьба многих писателей в прошлом. Одних с первых же шагов литературной деятельности сопровождали успехи, слава, других преследовало равнодушие или враждебное замалчивание, а то и травля. Одни быстро становились любимцами публики, о них неустанно шумела критика. Другие всю свою жизнь, несмотря на их упорный труд, оставались в тени, их отвергали, хотя и не отрицали их дарований.
Вспомним 80-е годы. Кто из писателей привлекал тогда особое внимание интеллигенции? Златовратский с его иконописными мужичками, с его утопическими общинными «устоями», Гл. Успенский с его поисками несуществующей благодетельной общины, вместо которой он находит дьявольский «купон», Короленко с его мягким и грустным лиризмом и, наконец, в годы крушения народнических идеалов - Надсон и Гаршин.
В эти годы и пришел в литературу, претерпев большие трудности, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Ему особенно «не везло» на этом пути: двери редакций больших журналов долго перед ним не открывались, хотя он настойчиво стучался в них. Его страшные повествования о кровавом пире чудовищного хищника - российского «желтого дьявола», который разрушал все старые устои, насаждал всюду свои порядки и с безумным разгулом разбойника грабил и обрекал на голод и вымирание массы трудового народа, - пугали народнических пророков и тогдашнюю интеллигенцию. Но капитализм, утверждая свое господство, опрокидывал всех народнических богов и втаптывал в грязь все их мечты и иллюзии. Это была грубая действительность, от которой нельзя уже было отмахнуться, однако фанатики от народничества все-таки упорно отрицали эту действительность и продолжали жить своими сентиментальными иллюзиями. Мамин-Сибиряк явился не ко времени, хотя и вовремя. Он не мог не явиться, потому что его выдвинула сама действительность, сама историческая необходимость. Беспощадная правда его потрясающих эпопей была неотразимой, но она противоречила «творимым легендам» Златовратских, Михайловских, Юзовых и целой плеяды группировавшихся около них благовестников народнических откровений. Гл. Успенский видел это капиталистическое страшилище - и не только в городе, но и в деревне. - и мы помним, как на него ополчился Златовратский с его паствой.
Даже после того как Мамин-Сибиряк пробил себе дорогу в литературу, критика старалась не замечать его. И только впоследствии беллетрист Альбов и критик Скабичевский вынуждены были признать бесспорное значение Мамина-Сибиряка как своеобразного художника, но рассматривали его творчество как творчество областного, преимущественно уральского бытописателя. Отдавая должное исключительному таланту писателя, литературовед Е. А. Соловьев-Андреевич и критик М. П. Неведомский не находили в его творчестве ничего жизнеутверждающего.
Буржуазная печать не уделяла Мамину-Сибиряку своего внимания. И это понятно: такой обличитель разбоя, злодеяний и безумного авантюризма капиталистов не мог вызвать сочувствия у либеральных торгашей.
Досадно, что советское литературоведение еще до сих пор не сказало о Мамине-Сибиряке своего авторитетного слова, что у нас нет еще о нем серьезных монографий. А между тем творчество Мамина-Сибиряка полностью принадлежит нам, и только наши литературоведы могут глубоко и всесторонне вскрыть и исследовать богатое наследие этого большого и проникновенного художника и помочь советскому читателю по справедливости оценить его величие. А ведь его значимость в литературе отметил еще в давние времена В. И. Ленин.
Мамин-Сибиряк родился и рос на Висимо-Шайтанском заводе в Нижне-Тагильском заводском районе. Это был один из многих старинных заводов, принадлежавших промышленной династии Демидовых. Уральские заводы славны были рабочими восстаниями против рабства, против свирепой эксплуатации труда, против крепостной зависимости. Знаменитое восстание крестьян Далматовского Успенского монастыря 1762–1764 годов, известное под названием «дубинщины», не прошло мимо крепостных рабочих уральских заводов. Уральские рабочие боролись в первых рядах войск Пугачева, захватывали заводы, сами управляли ими, лили пушки и делали ядра и оружие для восставших.
Волнения среди крепостных рабочих и крестьян происходили непрерывно начиная с XVIII века. После так называемого «освобождения крестьян» 1861 года волнения эти значительно усилились: царская «реформа» лишила крестьян земли, привела их к обнищанию и пролетаризации, а среди рабочих образовалась многочисленная армия безработных. На Урале капиталистическая эксплуатация приняла особые формы: «…самые непосредственные остатки дореформенных порядков, - писал В. И. Ленин в своей книге «Развитие капитализма в России», - сильное развитие отработков, прикрепление рабочих, низкая производительность труда, отсталость техники, низкая заработная плата, преобладание ручного производства, примитивная и хищнически-первобытная эксплуатация природных богатств края, монополии, стеснение конкуренции, замкнутость и оторванность от общего торгово-промышленного движения времени - такова общая картина Урала». Эти варварские полуфеодальные условия, в которых находилась уральская промышленность, существовали вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции.
В 90-х годах волнения и забастовки рабочих на уральских заводах значительно усилились и отличались уже более наступательным характером: рабочие предъявляли требования об увеличении заработной платы и нередко добивались победы. Но правильного, организованного руководства рабочим движением не было: возникший в середине 90-х годов «Уральский рабочий союз» был по существу аморфной организацией из народников и экономистов и, конечно, не мог быть авангардом рабочего класса. По словам В. И. Ленина, между террористами и экономистами «есть не случайная, а необходимая внутренняя связь… преклонение пред стихийностью…». И, конечно, этот беспочвенный союз прекратил свое существование. Революционная история организованного рабочего движения на Урале начинается только с создания искровского комитета партии в 1903 году.
Необузданный разбой, безумный авантюризм, сплошные кровавые оргии алчных охотников наживы, страшные эпидемии спекуляций, баснословные обогащения и катастрофические крахи и, с другой стороны, непрекращающийся мощный протест бесправных рабочих и крестьян - вот атмосфера, в которой рос будущий летописец Урала, певец его красот и грозный обвинитель капиталистических людоедов. В своих талантливых произведениях он разоблачает грязь и пошлость капиталистического мира, становится беспощадным судьей рабовладельцев и работорговцев и страстным защитником угнетенных и обездоленных тружеников.
С развитием капиталистического производства, писал Маркс в «Капитале», «общественное мнение Европы освободилось от последних остатков стыда и совести. Нации цинично хвастались всякой гнусностью, раз она являлась средством для накопления капитала». И дальше: «…ужасная и трудная экспроприация народной массы образует пролог истории капитала… Экспроприация непосредственных производителей производится с самым беспощадным вандализмом и под давлением самых подлых, самых грязных, самых мелочных и самых бешеных страстей».
Вот этих экспроприаторов народной массы, этих вандалов, пораженных бешенством самых подлых, грязных, преступных страстей, талантливо изображает в своих произведениях Мамин-Сибиряк.
В отличие от многих литераторов его времени Мамин-Сибиряк всегда был в самой гуще живой жизни. Может быть, рядом с ним стоял только Глеб Успенский. Он был самый страшный и грозный свидетель тех преступлений, злодейств и безумия русской буржуазии, которые с дьявольской дикостью проявлялись особенно на Урале.
Заводы при крепостном режиме владели огромными земельными пространствами и эксплуатировали труд сотен тысяч крестьян, прикрепленных к этим заводам. Это были своеобразные промышленные княжества, которым посессионное право обеспечивало даровой рабский труд. Владельцы этих промышленных латифундий, магнаты железа и золота, вроде Демидовых, Строгановых, были неограниченными монополистами. Жили они не на Урале, а в столице или жуировали за границей, заводы же со множеством рабов управлялись доверенными их лицами, которые, как воеводы, хозяйничали в этих грандиозных владениях. Заводчики платили копейки голодным людям и загребали сказочные прибыли.
Очень ярко и типично изображено это в таких романах, как «Горное гнездо», «Приваловские миллионы», «Три конца», «Золото». Никто до Мамина-Сибиряка не рисовал таких типических фигур, как грабители, авантюристы, наглые дельцы, готовые на всякие гнусные жестокости, на разбой, на обман, на интриги, чтобы захватить власть, богатство и деспотически распоряжаться целым краем. Вот львица, Раиса Павловна («Горное гнездо»), прозванная «царицей», жена главного управляющего, которая завладела магнатом Лаптевым и все забрала в свои руки- вот верный ее подручный - опричник, палач рабочих и крестьян - Родион Сахаров- вот Прейн - алчный разбойник, буквально истребляющий трудовое население ради личной наживы. Тут всё и все служат золотому дьяволу- все продажно: и честь, и совесть, и любовь, и жизнь. Один из раздавленных железной пятой капитала, Прозоров, плачет пьяными слезами и жалуется в отчаянии. «Господи, какое время, какие люди, какая глупость и какая безграничная подлость!.. Посмотрите, какой разврат царит на заводах, какая масса совершенно специфических преступлений, созданных специально заводской жизнью… Наука, святая наука и та пошла в кабалу к золотому тельцу!»
Автобиография
Я появился на свет в 1883 году ранним летом, 21 июня (н. с), в глухой деревне Чернавке Саратовской губернии (теперь эти места Пензенской области). Семья была патриархальная, старообрядческая, поморского согласия. Дед был хоть и маленький старичок, но держал всех в большой строгости: он никогда не ласкал детей и не замечал их. Но в праздники, когда приезжали в гости дочери, выданные замуж в соседние деревни, и ласкали меня, ребенка, он вдруг делал под веселую руку грозное лицо, тряс седой бородой и кричал: «А ну-ка дай его сюда, я его выпорю. Кланяйся в ноги, разбойник!» И я замирал от ужаса. Отец тоже боялся деда, а мать, молоденькая, похожая на девочку, дрожала перед ним и немела от страха. Порядки в семье были скитские, и мне было мучительно стоять часами с лестовкой перед иконами вместе со взрослыми и отбивать земные поклоны. Особенно тяжела была эта пытка в дни постов.
Я рано стал работать по двору и в поле - чистил навоз, боронил, сгребал сено, помогал молотить. Рано научился читать и писать. Старообрядцы считали праведным делом учить детей грамоте, чтобы они могли читать псалтырь, жития святых и распевать «гласы».
Женщины в деревне были наподобие рабочего скота: их били смертным боем, истязали, и в деревне было много кликуш. Моя мать в двадцать лет уже страдала тяжелой нервной болезнью.
После отмены крепостного права наша деревня оказалась малоземельной: на мужскую душу приходилось по «осьмине» (1/8 десятины). Так как жить в деревне было «не при чем», мужики уходили на заработки. Покидали деревню иногда целыми семьями, и избы стояли с заколоченными окнами и дверями.
В детстве я много плакал: больше всего страдал за мать, которую бил отец. Она лежала вся в синяках, с распухшим лицом и судорожно дрожала. Били и меня за то, что я играл, за то, что плакал около матери, за то, что не мог поднять лопату с навозом на телегу.
Бабушка была рыхлая, добрая, и. голос у нее был плачущий, скорбный. Она хорошо пела песни и умела рассказывать сказки и предания так, как будто сама все видела и пережила. Таких преданий и сказок я потом никогда не читал и не слышал, и мне кажется, что она их создавала сама. И мать и бабушка очень хорошо пели песни, и песни эти нередко переходили в плач, в вопление.
Деревню и ее околицу я очень любил. И сейчас, при воспоминании, все заливается солнечным сиянием, а за полями зеленеют перелески. На церковной площади, над зеленым лугом, мерцают волны зноя. По обе стороны речки со снежно-белым песком на берегах круто поднимаются взгорья, а в обрывистых берегах, в камнях, звенят студеные роднички.
И вот мы с отцом и матерью отправились на заработки, на рыбные промыслы. Я был поражен и подавлен сказочным величием Саратова, Астрахани, необъятной шириной Волги. Вплоть до Астрахани я находился в волшебном мире пароходных машин, грохота, рева гудков и богатырской возни грузчиков. А пароходы и баржи на реке казались мне живыми и горячими.
На рыбных промыслах Каспия, среди песчаных барханов, мы с матерью прожили с год. Тут я впервые увидел, что такое безысходное рабство. Люди надрывались на работе с раннего утра до поздней ночи, получая гроши, да и те утекали в лавочку хозяина. Многие работали здесь по нескольку лет, отрабатывая долги. Мать в штанах сидела на скамейке вместе с другой женщиной, лицом к лицу, и резала рыбу.
Весной мы возвратились в деревню.
А через год уехали уже на Кавказ - в станицу Прохладную, где отец работал на воскобойном заводе, а мать ходила на поденку.
Осенью опять вернулись в деревню из страха, что дед погонит нас по этапу и отца выпорют в волости.
В этот 1893 год в деревне открылась земская школа, и я попал во второе отделение. Летом разразилась холера. Это был так называемый «холерный год», когда эпидемия поразила, чуть ли не всю страну. Заболела и мать. Ее спас от смерти студент-медик. Бабушка перенесла болезнь почему-то очень легко. Каждый день по улицам села несли гробы, и в церкви целые дни гудели похоронные перезвоны.
Осенью приехала учительница - Елена Григорьевна Парменионова, образованная девушка, из тех самоотверженных женщин, которые «ходили в народ». Это она открыла передо мной красоту художественного слова и новый чудесный мир человеческого творчества. Я и раньше покупал у тряпичников маленькие книжечки и читал их запоем. Знал я уже стихотворения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, рассказы Л. Толстого, Тургенева, Короленко, Г. Успенского, увлекался и лубочными книжками.
Я читал в моленной «часы» и считался грамотеем. В это время в наше село прислали православного попа - ренегата из старообрядцев. Он повел провокационную борьбу с поморцами, чтобы расправиться с раскольниками. Жертвой своей провокации он избрал меня: подговорил сынишку полицейского сотника написать на церкви похабные слова и заявить, что написал их я. После церковной службы поп, с толпой молящихся подошел к нашей избе и приказал уряднику из волости арестовать меня. На съезжей этот урядник избил меня до потери сознания. Мы убежали с матерью к отцу, в Екатеринодар, где он в это время работал на паровой вальцовой мельнице. Полиция разыскивала меня, но я быстро научился надежно прятаться от нее.
В дни коронации, в 1896 году, меня амнистировали, и в полиции пристав оказал: «Молодец, что умел прятаться,- не попал к нам в лапы, а то мы бы тебя за милую душу водворили в колонию малолетних преступников».
Жили мы на Дубинке - в городском предместье - во дворе местного почетного мирового судьи Канивецкого, где обитали его престарелая мать и седовласая сестра - сердобольные барыни. Канивецкий печатал в «Областных ведомостях» веселые рассказы, похожие на анекдоты. Он покровительственно давал мне читать книги из своей огромной библиотеки.
Отец отдал меня «в люди» - «мальчиком» в мелочную лавку, но я скоро сбежал оттуда. Потом я попал «в ученье» в аптекарский магазин, но и отсюда убежал, не вынес побоев. Затем очутился в литографии, где в бензинных парах мыл литографские камни. Мать в это время работала прислугой у заведующего областной типографией. Он взял меня в типографские ученики. Месяца через два я набирал уже тексты объявлений, бланков и мелких заметок. Но, разбирая шрифт в кассах на земляном полу, заболел острым ревматизмом и слег в постель.
Тоска по деревне, по детской сельской свободе, по родным взгорьям, родничкам и солнцу, мальчишечья неволя в людях, муки за мать, которую продолжал истязать отец, постоянное ощущение, что я обречен, жить безрадостно, без всякой надежды на лучшее будущее, что в жизни только одно страданье, рабство, жестокость,- приводили меня в отчаянье. Я начал выражать свои переживания на бумаге. Рассказывал о моем житье в деревне, о рыбных ватагах, о радости возвращения домой. Потом написал целую толстую тетрадь - «Дневник мальчика».
Я показал свои труды сердобольным барыням, и они растрогались, заахали и передали мои тетрадки Канивецкому. Он иногда приезжал к матери и сестре «на хутор» отдохнуть. Как-то меня позвали к нему, и он запросто сказал мне: «Тебе надо учиться. Пописывай - может быть, что-нибудь и выйдет».
Барыньки повезли меня в гимназию. Я хорошо сдал экзамен, но учиться не пришлось: для гимназии я был слишком беден. Тогда сам пошел в городское шестиклассное училище и поступил в третий класс.
После окончания училища и дополнительного педагогического класса получил звание учителя начального училища.
Свои стихи и рассказы никому не показывал. В них я изливал и скорбь, и озлобление, и жалобы, и мечты. Раздумья и чувства искали выхода, и мне было легче, когда я выкладывал на бумагу все, что накопилось в душе. Во время выпускного экзамена в 1900 году я отважился показать свой последний рассказ «К свету» учителю, и он неожиданно, для меня похвалил его и посоветовал отнести редактору неофициальной части газеты «Кубанские областные ведомости» Л. М. Мельникову.
Встретил меня в редакции высокий коренастый человек, с большой головой, очень широким и высоким лбом, с черной бородой и очень маленьким носиком. Что-то в нем было и смешное и очень привлекательное. Принял он меня весело и радушно, рукопись взял и при мне же перелистал ее, потом горячо крикнул с пискливым шипеньем (у него была хроническая болезнь горла): «Ну, милый юноша! Рассказ я на днях напечатаю. Но работать, работать вам надо: еще первые шажки. Приносите ваши рукописи - буду помогать!» Этот замечательный человек был самым близким моим другом до самой его смерти.
В «Областных ведомостях» он напечатал потом и другие рассказы («После работы», «Максютка», «Черкесенок», «Маленький горец», «У ворот тюрьмы»). В 1901 году я послал М. Горькому в Крым повесть «На ватаге, на Жилой». Он возвратил мне рукопись с припиской: «Писать Вам нужно. У Вас есть уменье наблюдать жизнь, есть любовь к людям. Надо только писать кратко и метко - так, чтобы читателя точно палкой по башке. Исправьте рукопись сообразно с пометками на полях и пришлите мне: я напечатаю ее в «Мире божьем». Рассказ, к сожалению, не был напечатан и исчез навсегда. Я спрашивал себя не раз, почему он написал мне такие волнующие слова? Несомненно, это был свойственный ему педагогический прием - ободрить начинающего юнца, укрепить в нем веру в свои силы, толкнуть его на борьбу, разжечь в нем на долгие годы мечту о счастье, заставить дерзать и добиваться цели.
В 1902 году, чтобы вылечиться от лихорадки, я уехал в Забайкалье учительствовать. Прожил в захолустном поселье Ундинском учебный год, потом перевелся в другую, школу при железной дороге около Сретенска (в поселке Кокуй). Здесь, в читинской газете «Забайкалье», я стал печататься непрерывно. Через эту газету прошел цикл рассказов «На каторге» и ряд других рассказов и очерков. Один из рассказов - «Беспокойный» - был принят в «Журнал для всех», но не увидел света: журнал закрылся.
Эти юношеские рассказы, еще художественно незрелые, и по сей день дороги мне: в них выразилось мое страстное стремление к правде и справедливости, к борьбе против рабства и черносотенной тирании.
Уже в те юные годы я испытал на своей шкуре все мерзости и кровавые жестокости капиталистической эксплуатации и полицейского режима. Суровая школа жизни воспитала во мне крепкую волю к знанию и жгучий гнев против угнетателей. Тогда же я впервые почувствовал гордость от сознания, что я принадлежу к рабочему классу, что только рабочий класс - единственно революционный класс, что только он готовит революционную бурю и решит судьбу России. Уже тогда были у меня хорошие руководители - сознательные рабочие, интеллигенция и студенты, связанные с пролетариатом. Я учился, много читал, много мучился над «проклятыми вопросами». И мне хотелось выразить в рассказах, в очерках все, что накопилось в душе. Годы подневольного труда, эксплуатации, бесправия, издевательств над человеческой личностью озлобляли людей, разжигали гнев, и они уже хорошо знали, кто их враг и кто их друг. Но еще неорганизованные, предоставленные самим себе рабочие бунтовали в одиночку и часто опускались на дно. Об этом еще неумелой рукой и написаны были мои первые рассказы. Мой «добрый гений» и литературный вожатый Лука Мартынович Мельников как-то сказал мне: «Вы на верном пути, юноша. Чтобы не сбиться с него, держитесь как можно левее. У вас хорошая рабочая закваска, и вы добьетесь своего, только духа не угашайте».
Это были годы сипягинской и победоносцевской реакции. «Цензурная вьюга» свирепствовала вовсю. Я писал о рабочих, об угнетенных и бесправных людях, и этого было достаточно, чтобы вытравить из моих писаний дух протеста и мечту о свободе. Они беспощадно сокращались, а некоторые страницы «смягчались» и даже писались рукой редактора.
Такая судьба постигла рассказы и очерки, которые печатались в газете «Забайкалье». Редактор этой газеты писал мне: «Ваши рассказы литературны, новы, чувствуется в них свободное дыхание, бодрость, сила правды, и я печатал их с удовольствием». Однако их уродовали тяжелые руки цензора и того же редактора: они выходили из рамок «дозволенного начальством». Написанные мною в годы японской войны рассказы о женской каторге подвергались особенно яростной цензурной расправе. Не только вычеркивались отдельные абзацы и страницы, но и заменялись одни фигуры другими. Такую «чистку» весьма сильно испытали на себе рассказы: «Последние из разгильдеевцев», «Бродяга», «Не в тюрьме, не на воле» («Среди вольной команды») и «Три в одной землянке». Рассказ же «Малютка в каторжных стенах» не был напечатан - зарезан полицейской цензурой.
В нашей художественной литературе не была показана женская каторга, и я считал, что сделал первый почин в обрисовке характеров каторжниц - женщин, которых загнал в далекую Сибирь царский суд.
Впоследствии я отобрал из всего написанного в те годы наиболее типичное для моего литературного и революционного развития и постарался «оживить» рассказы, воплотить в них тот пафос, который гасили царские охранители «порядка и благочиния». Без этой реставрационной и творческой работы рассказы эти теряли и художественную и идейную значимость.
В 1905 году я уехал в Тифлис - учиться в учительском институте. Революцию встретил в Грузии. Еще за год до этого я связался с читинскими большевиками и выполнял их поручения по распространению прокламаций и нелегальной литературы. В Тифлисе я вошел в социал-демократический кружок учительского института и близко сошелся с известным на Кавказе большевиком Ильей Санжуром, с которым весной 1906 года уехал в Ейск на партийную работу. В августе успели избегнуть ареста - спешно выехали из Ейска: Санжур - в Ставрополь, а я - в Забайкалье.
В Сретенске вместе с членом читинского ПК Моисеем Губельманом, Иваном Бутиным, расстрелянным впоследствии семеновцами, и учителем Подсосовым был организатором большевистской группы. Работа велась нами среди приказчиков, железнодорожников и грузчиков на пристани.
Осенью 1906 года был арестован первым из группы (кстати, меня в то время разыскивала охранка) и отправлен в иркутский централ. Пребывание в этой тюрьме, через которую прошли Чернышевский, поэт Михайлов, Кроленко, было для меня настоящим университетом. Там происходили ожесточенные дискуссии между марксистами и эсерами. Этот тюремный период изображен мною в повести «Старая секретная». Весной 1907 года я был отправлен на место ссылки - в Манзурку, недалеко от Верхоленска, где провел больше трех лет. Там написаны мною рассказы «Удар» и «В арестантском вагоне» и начата повесть «В изгнании» («Изгои»). Одна из иркутских газет отказалась печатать рассказ «Удар» как нецензурный, а читинская «Новая газета» хоть и приняла его, но прочистила очень основательно (это было время военного положения в Восточной Сибири и диктатуры Рененкампфа). От большой же повести «Изгои» после неоднократных цензурных выжимок осталось лишь несколько отрывков. Принятая сначала в «Заветы», а потом в «Современник», она не появилась в печати, так как журналы один за другим были закрыты.
В 1910 году я освободился из ссылки и поселился в Новороссийске. Здесь служил конторщиком в мучном магазине, давал уроки, учительствовал в частной прогимназии, а потом приглашен был преподавателем в городское четырехклассное училище (переименованное потом в Высшее начальное училище).
В начале первой империалистической войны был назначен инспектором вновь открытого Высшего начального училища в большой кубанской станице и работал там до весны 1918 года. Здесь написан рассказ «Единородный сын», напечатанный Горьким в «Летописи», и вчерне набросана «Старая секретная», к которой я возвратился только в 1925-1926 годах.
С самого начала февральской революции активно принимал участие в Совете рабочих, солдатских и казачьих депутатов, был одним из организаторов советской власти в станице, избран был комиссаром просвещения, проводил учительский съезд с А. Хмельницким, виднейшим большевиком, который потом работал в Москве по составлению свода советских законов. Краснодарским наркоматом по просвещению я командирован был в Новороссийск для проведения реформы школы. В августе Новороссийск внезапно заняли деникинцы. Все члены Совнаркома были схвачены, а партийные работники ушли в подполье. Я с некоторыми товарищами скрывался в рабочем поселке цементного завода «Пролетарий» и с первых же дней включился в революционную работу среди солдат, между которыми оказались знакомые фронтовики из кубанской станицы, настроенные по-большевистски- потом связался с красно-зелеными с помощью подпольной, организованной мною, группы учащейся молодежи. Тогда же я получил известие, что кубанское войсковое правительство постановило объявить меня вне закона, и был предупрежден товарищами о соблюдении строгой конспирации. С приходом Красной Армии выполнял ответственную партийную и советскую работу.
В августе 1920 года пошел добровольцем в Красную Армию против десанта Врангеля и работал потом в политотделе 14-й бригады 9-й армии. Зимою был отозван окружкомом и назначен редактором газеты «Красное Черноморье», избран в члены окружкома и потом назначен заведующим отделом народного образования. Прикреплен был к партячейке цементного завода, где мне приходилось принимать самое непосредственное участие в организационных делах по восстановлению завода. Среди напряженной партийно-советской работы написал рассказ «Зеленя» («Волки»).
Осенью 1921 года с помощью Горького выехал в Москву, где работал сначала по народному образованию, а потом секретарем редакции вновь открытого журнала «Новый мир». С 1923 года стал литератором-профессионалом.
В 1922-1923 годах напечатаны рассказы «Зеленя», «Изгои» и пьеса «Ватага», а в 1924 году закончил роман «Цемент», который начал печататься в январской книжке «Красная новь» в 1925 году.
«Цемент» писался по ночам в неприютной, холодной, похожей на одиночку подвальной комнатушке на Смоленском бульваре.
Летом 1927 года поехал на Днепрострой, где жил наездами до пуска электростанции в 1932 году. В «Известиях» печатал очерки о ходе стройки, а в 1933 году выпустил первый том «Энергии», через шесть лет - второй. В результате поездки по Запорожской области написал повесть «Новая земля» о людях социалистического земледельческого труда.
Ранее написанные повести «Огненный конь» и «Пьяное солнце» считаю порочными и чуждыми мне по духу и по форме и отвергаю их.
В 1941 году напечатал в «Новом мире» повесть «Березовая роща». Эта поэма о лесе и преобразовании природы - одно из самых дорогих мне произведений.
Во время Великой Отечественной войны писал много как публицист. Корреспондировал с уральских оборонных заводов в «Известия». За эти годы написал две книги под общим заглавием «Опаленная душа» и «Клятва». Очерки о Днепрострое и о новаторах производства на Урале изданы отдельными книжками. В 1945 году назначен был директором Литературного института им. Горького. Эта работа оторвала меня от писательского стола на три года. Работал в институте, утвержден был Всесоюзной аттестационной комиссией в звании профессора.
«За выдающиеся заслуги в области литературы» награжден был в 1939 году орденом Ленина, в 1943 году в связи с 60-летием - орденом Трудового Красного Знамени, а в 1953 году - вторым орденом Ленина в связи с 70-летием.
В 1950 году мне присуждена была Сталинская премия второй степени за «Повесть о детстве», а в 1951 году - Сталинская премия первой степени за «Вольницу».
Книги мои переведены на все западные языки, а «Цемент» - на все языки мира. Летом в 1946 году был в Болгарии и Югославии и пережил истинное счастье: я узнал там, что мои книги помогали борьбе с фашизмом. Свою популярность среди широких народных масс этих стран я воспринял как признание того, что и я - участник их революционной борьбы.
Федор Васильевич Гладков умер в Москве 20 декабря 1958 года.
Трудно поверить, что нет с нами этого замечательного писателя-коммуниста, этого горячего, беспокойного, необыкновенно доброго и нежного человека, который вопреки тяжелому недугу молодо и щедро отдавал свои силы родине.
Совсем недавно, в июне 1958 года, советская общественность отмечала 70-летие Федора Васильевича Гладкова, и этот юбилей, естественно, закономерно превратился во всенародное торжество...
С особенным требовательным и ласковым поощрением относился писатель ко всему, что считал необходимым, полезным для литературного дела. С горячим сочувствием отнесся он и к идее создания этого сборника автобиографий писателей старшего поколения- он давал советы по распределению и отбору материала, просил присылать ему автобиографии, которые были ему особенно близки, интересны...
Редкая встреча с ним обходилась без вопроса: «Ну, как работа над сборником? Подвигается? Когда намечен выход книги?»
В одной из бесед он сказал: «Биографии наши поучительны, ох! как поучительны! Сколько мы в жизни увидели, узнали, через какую борьбу прошли, прежде чем осмелились назвать себя писателями... Да-да - осмелились! Надо было добиться, чтоб совесть позволила себя так величать...» Писательская работа для Федора Васильевича Гладкова была высоким подвигом, самозабвенным служением, и он отдавался этому служению и с юношеским восторгом, и с какой-то торжественной, аскетической суровостью.
Над четвертой книгой своих автобиографических повестей, которую он назвал «Мятежная юность» (отрывки из этой повести были напечатаны в «Правде»), он работал последние два года лихорадочно, урывками, преодолевая тяжелую болезнь, и горевал, опасался, что не хватит сил довести работу до конца... Он и умер, не отрываясь душой от работы, от людей, от жизни.
ГЛАДКОВ, ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ(1883–1958), русский советский писатель.
Родился 9 (21) июня 1883 в с.Чернавка Саратовской губ. в крестьянской старообрядческой семье, в которой знали и ценили русские народные предания, былины, песни и сказки.

С детства Федор Гладков отличался любознательностью, хорошо учился в сельской школе, однако, обвиненный в «богохульстве», бежал в Екатеринодар, где был «мальчиком» в лавке, учеником в аптеке, наборщиком в типографии.

В 1900 окончил Екатеринодарское городское училище со званием учителя начальной школы, работал в Забайкалье, куда были сосланы его родители. Жизненные перипетии, влияние творчества М.Горького, знакомство с ссыльными определили позицию Гладкова: ненависть к богатым и властным, сочувствие угнетенным (рассказы 1900–1902 К свету, Черкесенок, После работы, У ворот тюрьмы). В 1905 переехал в Тифлис, где в 1906 окончил экстерном Учительский институт. Сблизившись с социал-демократами, по заданию РСДРП ездил в Ейск. За организацию забастовки портовых рабочих преследовался полицией, скрывался в Забайкалье. После публикации рассказа Черносотенец (1906) был приговорен к четырем годам ссылки в Верхоянском уезде.

С 1910 поселился в Новороссийске. В 1914–1917 учительствовал в прогимназии станицы Павловской на Кубани, участвовал в установлении советской власти на юге России. Во время белогвардейской оккупации – в большевистском подполье- добровольцем сражался в рядах Красной Армии. Заведовал отделом народного образования в Новороссийске, в 1920 назначен редактором местной газеты «Красное Черноморье». В 1921 переведен на работу в Москву, с начала 1920-х годов– один из лидеров группы пролетарских писателей «Кузница», с 1932 – член редколлегии журнала «Новый мир». В годы Великой Отечественной войны Гладков – корреспондент газет «Правда» и «Известия» на Урале. В 1945–1948 – директор Литературного института им. А.М.Горького в Москве.

Ранние произведения Гладкова (в т.ч. повесть Удар, 1909, высоко оцененная А.И.Куприным), рассказывающие о жизни рабочих, крестьянской бедноты, каторжников и босяков, нередко отличались натурализмом «физиологических очерков» – в традициях русской народнической литературы, – и некоторой апологией «босячества» – в духе раннего Горького. Стремлением показать изнутри нравственные искания интеллигенции после поражения Первой русской революции 1905–1907 на материале жизни политических ссыльных отмечена повесть Изгои (1913, опубл. в 1922- др. назв. В изгнании). Пафосом Гражданской войны одушевлены сочинения Гладкова конца 1910-х – начала 1920-х годов (рассказы Единородный сын, др. назв. Пучина, опубл. в 1917 М.Горьким в «Летописи»- Огненный конь, 1923, пьесы Бурелом, поставленная в 1920 Вс.Мейерхольдом- Ватага, 1923), также тяготеющие к грубому жизнеподобию, «рубленому» языку и «коллективному герою» образца «стихийного» письма А.Г.Малышкина.
У истоков жанра советской «производственной» литературы, активно поощряемой официозом и социалистической эстетикой, стоит роман Гладкова Цемент (1925, новая ред. 1930, окончат. ред. 1944), в котором подробно анализируемая «технологическая» проблематика восстановления цементного завода сочетается с метафорическим планом – показом сложного пути формирования, «цементирования» новой социальной и семейно-бытовой психологии и поведенческих принципов. Роман вошел в хрестоматийный ряд произведений советской прозы, был переведен на многие языки мира и вызвал серию подражаний. Литературные принципы, обозначенные в Цементе, сам Гладков отстаивал в рассказе Кровью сердца (1928), а развивал, переходя от наставления «правдой жизни» к гротеску обличения, в сборнике Маленькая трилогия (1932, сатирические рассказы 1926–1930: Головоногий человек, Непорочный черт, Вдохновенный гусь) и повести Пьяное солнце (1932). Стремление создать положительный образ социалистической действительности проявилось в рассказе Новая земля.


Этапным в творчестве Гладкова явился второй производственный роман – Энергия (1932–1938- новая ред. 1947), написанный на материале возведения Днепрогэса и др. строек пятилеток с той же, что и в романе Цемент, «двухуровневой» задачей: дать документальную историю строительства и одновременно масштабную картину энтузиастического раскрепощения энергии масс. Резкая критика, в т.ч. языка первой книги романа Горьким, побудила писателя к неоднократной переработке произведения, которое автор так и не счел завершенным.
В 1941 Гладков опубликовал повесть Березовая роща, посвященную проблеме сохранения природы, с образом ее бесстрашного защитника – старого учителя, просветителя и труженика – в центре. В военные годы Гладков писал злободневные рассказы и повести о работниках уральских оборонных заводов, в т.ч. эвакуированных ленинградцах (повесть Клятва, 1944), о борьбе с врагами (повесть Боец Назар Суслов, 1942). В горьковских традициях и в актуальном для советской литературы 1920-х – 1940-х годов жанре автобиографии «человека из народа» Гладков создал тетралогию о собственной жизни: Повесть о детстве (Государственная премия, 1950), Вольница (Государственная премия, 1951), Лихая година (1954), Мятежная юность (не завершена).
Оставил также литературные портреты многих общественных деятелей и писателей, в т.ч. А.С.Неверова, А.С.Серафимовича, А.Г.Малышкина, П.П.Бажова, публицистические и литературно-критические статьи (сборник О литературе, 1955).
Фотографии из семейного архива любезно предоставлены внуком писателя А.Б.Гладковым.
Федор Васильевич Гладков - прозаик (21.6.1883 с. Чернавка Саратовской губ. — 20.12.1958 Москва). Из семьи крестьян-старообрядцев. С 1902 года Федор Гладков работал учителем в народной школе. В 1905 году включился в революционную деятельность, начиная с 1906 — член РСДРП, в 1920 вступил в ВКП(б), был редактором газеты в Новороссийске и в 1921 переселился в Москву. Здесь в 1923 году Федор Васильевич вошел в пролетарское писательское объединение под названием «Кузница».
Роман Цемент (1925), пропагандировавший восстановление промышленности во времена НЭПа, поставил Гладкова в один ряд с особо продвигаемыми советскими писателями. В начале 30-х гг. некоторые книги, например, роман Новая земля (1931) были также переведены на немецкий язык. Романом Энергия (1933) — о строительстве ДнепроГЭС — Гладков внес свой вклад в литературу о пятилетках. В 1932-40 гг. он входил в редколлегию журнала «Новый мир». В период второй мировой войны Федор Васильевич Гладков был корреспондентом газеты «Известия» и «Правда» на Урале, в 1945-48 гг. возглавлял Литературный институт.
Гладков описал свою юность с точки зрения классовой борьбы в автобиографической трилогии: Повесть о детстве (1949 год, Сталинская премия за 1949, 2-й степени), Вольница (1950, Сталинская премия за 1950, 1-й степени) и Лихая година (1954). Как депутат Верховного Совета РСФСР, а также член правления Союза писателей СССР, Федор Гладков выступал в печати по вопросам политики в области литературы, написал статьи о А. Неверове, П. Бажове, А. Малышкине и А. Серафимовиче. Федор Васильевич — писатель, десятилетиями выдвигавшийся по политическим причинам на передний план, но не талантливый.
Тот вариант Цемента, который был включен в программу советского обучения как первая и образцовая книга о социалистическом строительстве, лишь в малой степени соответствует роману в его первоначальном виде — искусственному, стилизованному. Гладков много раз перерабатывал роман в соответствии с требованиями социалистического реализма. В СССР это произведение восхваляли, находя в нем «актуальность темы, яркость образа большевика, пафос строительства, горячую партийность...» (Сейфуллина), и закрывали глаза на недостатки стиля, представляющего собой «пеструю смесь старомодного реализма, натурализма, и ложно понятого модернизма» (Struve). «Этот роман ввел лит. форму, ничего общего не имеющую с лит. совершенством, зато слишком много — с коммунистическим мировоззрением» (Slonim). Одним из своих «самых любимых произведений» Федор Гладков называл повесть Березовая роща (1941).
Соч.: Цемент, ж. «Красная новь», 1925, №1-2, 5-6, существенные перераб. в изд.: «Собр. соч.». В 3-х тт., 1929-30, т.2- Энергия, 1933- Березовая роща, ж. «Новый мир», 1941, №3- Повесть о детстве, 1949- Вольница, 1950- Лихая година, 1954. — Собр. соч. В 3-х тт., 1926- В 8-ми тт., 1958-59- В 5-ти тт., 1983-85.
Гладков Федор Васильевич
Гладков Федор Васильевич (1883 – 1958), прозаик. Родился 9 июня (21 н. с.) в селе Чернавка Саратовской губернии в крестьянской старообрядческой семье. Начальное образование получил в сельской школе, затем пришлось работать: был “мальчиком” в лавке, учеником в аптекарском магазине, наборщиком в типографии. Продолжил образование, поступив в Ектаринограде в училище, по окончании которого получил звание учителя начальной школы. С 1902 учительствовал в Забайкалье. В 1905 едет в Тифлис для поступления в учительский институт, сближается с революционерами и по заданию партии уезжает в Ейск. Вскоре последовали арест и ссылка на три года в Верхоленский уезд. После возвращения жил в Новороссийске.
Ф. Гладков начал писать, учась в екатеринодарском училище, когда был напечатан первый – “К свету”. Его ранние произведения публиковались в провинциальных газетах. Более зрелым произведением была повесть “Изгои”, о политических ссыльных, написанная в 1908 – 09 (опубликована в 1922).
В 1914 – 17 Гладков учительствовал в прогимназии станицы Павловской на Кубани. С началом гражданской войны добровольцем уходит в Красную Армию. В 1920 назначается редактором новороссийской газеты “Красное Черноморье”. В 1921 был переведен на работу в Москву. В 1920-е пишет ряд произведений: рассказ “Огненный конь”, пьесы “Бурелом” и “Ватага”, роман “Цемент”, принесший автору известность, высоко оцененный М. Горьким.
В 1923 Гладков входит в литературную группу “Кузница”, появляются новые произведения писателя: рассказ “Кровью сердца” (1928), “Новая земля” (1930), сборник “Маленькая трилогия” (сатирические рассказы, 1932). С 1932 становится членом редколлегии журнала “Новый мир”, в этот период создает свое значительное произведение – роман “Энергия”. Во время Великой Отечественной войны был корреспондентом газет “Правда” и “Известия”, писал рассказы о людях уральских заводов, о ленинградских рабочих, эвакуированных на Урал, – повесть “Клятва” (1944). В 1945 – 48 был директором Литературного института им. М. Горького. В послевоенные годы пишет автобиографическую трилогию – “Повесть о детстве” (1949), “Вольница” (1950), “Лихая година” (1954), заключительную часть автобиографической эпопеи – “Мятежная юность” – закончить не успел.
Перу Ф. Гладкова принадлежат литературные портреты ряда писателей – 7. Бажова, А. Серафимовича и др. – и общественных деятелей – М. Калинина, и. Скворцова-Степанова и др. Умер Ф. Гладков в Москве 20 декабря 1958.
Краткая биография из книги: Русские писатели и поэты. Краткий биографический словарь. Москва, 2000.








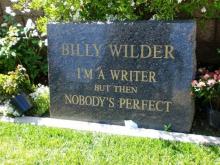
Добавить комментарий